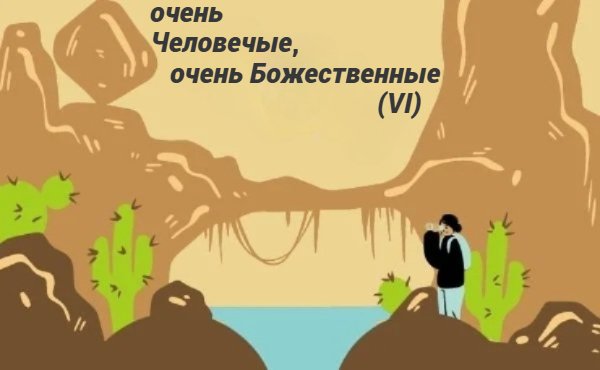На хранящейся в Берлине картине, написанной маслом по дереву, Рембрандт в 1627 году изобразил старца, сидящего за столом в полумраке. Вокруг него громоздятся золотые монеты и документы на собственность. Среди предметов есть и часы — предзнаменование того, что его время сочтено. Старец носит очки, чтобы компенсировать своё слабое зрение, и освещает стол и свои владения свечой, которую прикрывает правой рукой: ненадёжный свет, подобный нити жизни, что скоро угаснет.
Так этот великий художник представлял себе притчу, которую Иисус однажды рассказал перед толпой в тысячи людей: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: «что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все блага мои, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?». Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк 12:16-21).
Сам Бог называет этого богача «безумным» или неблагоразумным. «Человек, которого все знали как умного и удачливого, является глупцом в глазах Бога: "безумный", — говорит Он ему. Перед лицом подлинно настоящего он предстаёт со всеми своими расчётами удивительно глупым и близоруким, потому что в этих расчётах он забыл о подлинном: что душа его желала чего-то большего, чем блага и радости, и что однажды ему предстоит предстать перед Богом»[1]. Этот человек не понимал, что смысл его жизни заключался в любви к Богу и ближнему. Поэтому, когда у него появилась возможность сделать что-то для других, он не смог мыслить дальше самого себя. В глубине души он не ведал, «каковы и какими поистине являются вещи»; он не мог творить добро, потому что «добро — это то, что соответствует реальности»[2]. Поэтому он безумен. Поэтому он неблагоразумен.
Ложные благоразумия
Благоразумие — это добродетель, которая связывает наши поступки с реальностью: благоразумным является тот, кому вещи кажутся такими, какими они есть на самом деле. Основываясь на этой связи с реальностью, благоразумие побуждает нас выбирать подходящие средства для достижения хорошей цели и использовать их. То есть благоразумие не считает хорошей любую цель. Поэтому, говорил святой Хосемария, «мы должны всегда спрашивать себя: благоразумие, для чего?»[3]. И мы отвечаем: чтобы любить Бога и ближних. Как писал святой Августин, «благоразумие — это любовь, которая хорошо различает, что помогает нам в стремлении к Богу, а что мешает»[4].
Благоразумие должно сопровождаться верой и любовью, чтобы не выродиться в одну из своих карикатур. Действительно, существуют два ложных благоразумия. С одной стороны, это просто «благоразумие плоти» (Рим 8:6), свойственное тому, кто устремляет свой взор лишь на удовольствия и чувственные блага и ищет только их наслаждения и обладания, не обращая внимания на другие, более важные цели[5]. «Что разумом зовет он: свойство это он на одно лишь мог употребить – Чтоб из скотов скотиной быть!»[6], — говорит по этому поводу Мефистофель в известном произведении Гёте. С другой стороны, у нас есть «лукавство»: умение находить средства, позволяющие достичь порочной цели. Эта порочная цель не обязательно должна быть чувственной, как если бы удовольствие было чем-то дурным само по себе; она может заключаться, например, в эгоистичном поиске собственной безопасности без учёта нужд других[7], как это происходит в случае с богачом из нашей притчи.
Истинное благоразумие, утверждает Катехизис Католической Церкви, «есть добродетель располагающая практический разум при любых обстоятельствах распознавать наше истинное благо и выбирать правильные средства для его совершения»[8]. Это истинное благо не ограничивается благом чувственности, но охватывает личность во всей её целостности; это благо, проистекающее из истинной сущности самих вещей, а не только из моих желаний. Оно состоит в том, чтобы воздавать каждому своё, в том, чтобы упорно идти по пути, который сделает нас более счастливыми — святость, любовь, верность — несмотря на встречающиеся трудности. Это умение наслаждаться удовольствиями в гармонии с истинным «я».
Это определение благоразумия говорит о распознавании и о выборе. Для первого — «распознать истинное благо» — нам нужно настроить нашу волю и наше сердце так, чтобы они любили и желали истинного блага. Это достигается с помощью других добродетелей, особенно справедливости, а также мужества и воздержанности. Нравственные добродетели действительно указывают благоразумию на благо: только с ними оно может ориентироваться на добрые цели и «избирать верные средства» для их осуществления. Но в то же время в определении любого добродетельного поступка присутствует благоразумие как мера, ибо именно оно связывает действие с реальностью и решает, здесь и сейчас, ту золотую середину, лучшую, между двумя ошибочными крайностями. То есть благоразумие является как условием для роста других нравственных добродетелей, так и их результатом. Это похоже на добродетельный круг. Вот поэтому так важны воспитание и среда, в которой мы живём. Там мы учимся любить и вкушать истинное благо не с помощью рассуждений, а через отождествление с теми, кого мы любим.
Обдумывание: остановиться, чтобы подумать
Тщательно изучая благоразумие, святой Фома Аквинский выделяет в нём три акта: обдумывание, решение и исполнение. Первые два происходят лишь в нашем разуме; третий же ведёт нас к действию[9]. Эти три акта можно ясно увидеть в другом рассказе Иисуса: в притче о неразумных и мудрых девах, где Господь сравнивает Царство Небесное с одной из частей празднования иудейской свадьбы (ср. Мф 25:1-13).
Церемония, описанная в притче, заключалась в том, чтобы проводить невесту с определёнными формальностями в дом жениха. Поздно вечером, обычно на закате в среду, гости веселились в доме невесты. Жених прибывал незадолго до полуночи со своими ближайшими друзьями, чтобы встретиться с невестой. Гости встречали его при свете масляных ламп. Также было принято, чтобы десять женщин с лампадами в руках ждали прибытия жениха, укреплёнными на шестах, в память об иудейских публичных торжествах. Это те десять дев, о которых Иисус говорит, что они «взяли светильники свои» и «вышли навстречу жениху». Затем вся процессия должна была пройти в сопровождении света этих светильников к дому отца жениха, где должна была состояться свадьба. Однако не все они были в равной степени хорошо подготовлены: «пять из них были неразумны, а пять мудры. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих». Последние были предусмотрительны: они вспомнили, что в таких случаях жених прибывает лишь ближе к полуночи; они рассчитали, что их лампады не будут гореть так долго (обдумывание); они решили взять сосуды с запасным маслом, несмотря на связанные с этим неудобства (решение); и, наконец, так и поступили (исполнение). Напротив, неразумные, хотя, возможно, и слышали, как мудрые обсуждали проблему, и даже видели, как они пошли за сосудами, не захотели усложнять себе жизнь; они позволили увлечь себя поспешности и торопливости, чтобы поскорее добраться до дома невесты; их привлекли игры и смех, и они больше ни о чём не думали. Притча наводит на мысль, что неосмотрительность глупых дев, возможно, была вызвана главным образом отсутствием предусмотрительности (обдумыванием) и глупой беспечностью.
В конце концов случилось то, что можно было предвидеть: «Как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: "вот, жених идет, выходите навстречу ему". Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: "дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут". А мудрые отвечали: "чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе". Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Сопровождать его отправились, в конечном счёте, только пять мудрых дев с их горящими светильниками и толпа, поющая и танцующая. По прибытии в дом дверь затворилась и начался пир. Когда же прибыли пять неразумных дев, было уже поздно. Хотя они взывали, говоря: «Господи! Господи! отвори нам», — они получили суровый ответ: «истинно говорю вам: не знаю вас».
Мы можем спросить себя: почему Иисус называет одних мудрыми, а других неразумными? Притча позволяет ответить, обратив внимание на три этапа благоразумного действия, но в ней особенно выделяется первый: обдумывание. Чтобы поступать правильно, необходимо остановиться и подумать о ситуации, внимательно и добросовестно выслушав, как обстоят дела на самом деле; вспомнить похожие случаи, чтобы извлечь опыт; позволить другим — благоразумным — давать советы, потому что, как говорит святой Фома, «в том, что касается благоразумия, нет никого, кто всегда мог бы обойтись собственными силами»[10]. И, наконец, нам нужно быть внимательными к меняющимся обстоятельствам, которые могут подсказать, что нужно скорректировать план и принять новое решение для достижения желаемого блага. Речь идёт, в конечном счёте, о познании реальности, необходимом условии для совершения добра. Недостаточно «доброго намерения» или «доброй воли»: требуется ходить в истине, потому что только «истина сделает вас свободными» (Ин 8:32).
Святой Хосемария призывал тщательно изучать вопросы перед принятием решения, выслушивая все заинтересованные стороны и избегая поспешности: «Срочное может подождать, — говорил он, — а очень срочное должно подождать»[11]. Он указывал на необходимость просить совета у Святого Духа в молитве, потому что «благоразумен тот, кто всегда внимательно прислушивается к наставлениям Божиим»[12]. Он также советовал обращаться к другим людям, которые могут нам помочь, как, например, духовный наставник или те, кто разделяет с нами ответственность за решение. В этом процессе обдумывания смирение является основополагающим, чтобы мы могли открыться истине, чтобы максимально приблизиться к реальности вещей.
Решение: выбрать путь
Для иллюстрации решения, второго момента благоразумия, поучителен рассказ святого Марка о первых часах утра Воскресения. Мария Магдалина и другие женщины купили масла, чтобы умастить тело Иисуса, и отправились в путь очень рано, говоря друг другу: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» (Мк 16:3). Хотя они не нашли решения всех проблем, с которыми столкнутся, любовь к Иисусу побуждает этих женщин принять правильное, благоразумное решение: они решают действовать, опираясь на имеющиеся у них данными. «Это была огромная плита, — комментирует святой Хосемария. — Так обычно и бывает. Трудности видны сразу, но если действует любовь, на эти препятствия не обращают внимания: есть дерзновение, решимость, смелость: то, что должно быть сделано, делается! Кто отвалит тот камень? Сами они не могли; и, тем не менее, они идут вперёд, направляясь ко гробу. Сын мой, ты и я, как у нас обстоят дела с колебаниями? Имеем ли мы эту святую решимость, или должны признать, что нам стыдно, когда мы созерцаем решимость, неустрашимость, дерзновение этих женщин? Когда они пришли ко гробу, "видят, что камень отвален" (Мк 16:4). Так всегда бывает. Когда мы решаемся осуществить то, что должны сделать, трудности преодолеваются легко»[13].
Обдумывание, тот первый акт благоразумия, не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент мы должны его завершить и принять решение. Так как нерешительность — это другая форма неблагоразумия, которая делает бесплодным предшествующее обдумывание: бесполезно распознавать, какая линия поведения является наиболее добродетельной, если потом я не решаюсь на неё, будь то потому, что мне не хочется, потому что у меня нет настроения, из опасений «что скажут другие», от страха ошибиться или по любой другой причине. Бесполезно знать, что лучше, если я не решаюсь это сделать. «"Отложу на завтра!"… Эти слова иногда употребляют благоразумные люди. Но чаще – малодушные: те, кто сдался», — также говорил святой Хосемария[14]. Благоразумный человек не ждёт уверенности там, где её не может быть, скорее он «считает, что лучше двадцать раз промахнуться, чем без мысли и цели полеживать на боку»[15]. Не принимать решение — часто это неблагоразумие, потому что тогда другие или просто время решат за нас, возможно, с меньшими шансами на успех. Благоразумный человек не стремится иметь всё под абсолютным контролем: он признаёт собственную ограниченность и уповает на Бога, потому что это самое реальное.
Пример Иисуса красноречив. В Евангелии Он предстаёт как Тот, Кто знает реальность, Свою судьбу, Своё истинное благо: Он благоразумно ожидает пришествия Своего «часа». Например, в Кане Он говорит Своей Матери: «ещё не пришёл час Мой» (Ин 2:4). Позже, в двух случаях, святой Иоанн рассказывает, как Он проходил сквозь толпу, «потому что ещё не пришёл час Его» (Ин 7:30; 8:20). В какой-то момент мы даже видим, что Его желания и чувства не совпадают (ср. Мф 26:39), но, несмотря ни на что, Он избирает благо. То «встаньте, пойдём» (Мф 26:46) перед Его арестом в Гефсимании — это благоразумный, героически благоразумный выбор.
Исполнение: перейти к действию
В конце Нагорной проповеди Иисус даёт несколько предостережений, одним их которых является этот образ благоразумного человека: «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне... А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке» (Мф 7:24-26). Различие между благоразумным и безрассудным заключается здесь в претворении в практику услышанного. Потому что недостаточно обдумывать и решать: необходимо перейти к действию. В этом состоит третий и последний момент истинного благоразумия - исполнение, о котором святой Фома говорит, что он самый важный, ибо бесполезно знать путь, если я не иду по нему[16]. Можно быть неблагоразумным не только из-за спешки или нерешительности, но также — и это случается чаще, чем кажется — из-за остановки перед препятствиями или из-за нерадения, упуская то, что должно быть сделано, часто по причине такой простой, как обычная забывчивость.
«Думать медленно и действовать быстро»[17]: так однажды советовал святой Хосемария блаженному Альваро дель Портильо. Этой максимой он хотел, с одной стороны, уберечь его от ошибок, к которым ведёт поспешность, но также предостеречь от неблагоразумия без необходимости затягивать решение и его осуществление. Дерзновение — это не неблагоразумие. Более того, если это истинное дерзновение, то это истинное благоразумие. «Что надлежит сделать – должно быть сделано… Без колебаний… Безоглядно… Иначе Сиснерос не стал бы Сиснеросом… Тереза де Аумада – святой Терезой… Иньиго де Лойола – святым Игнатием…Бог и отвага!..»[18].
Неоправданные задержки в исполнении принятого решения могут, кроме того, причинить вред другим: особенно если у человека есть задача воспитания или управления, как у родителей по отношению к детям или у начальников по отношению к подчинённым. Требуется мужество, чтобы преодолеть страхи, искушение сделать то, что удобнее, или чрезмерную привязанность к собственному имиджу. Это очень хорошо отражено в письме, где святая Екатерина Сиенская настоятельно призывала Папу Григория XI пресечь бесчинства некоторых церковнослужителей: «…Итак говорю я: если он властитель, то поступает плохо, поскольку из-за любви к самому себе (то есть из-за страха оказаться неугодным тварным существам) в нем умирает святая справедливость, ведь он связан самоугождением и себялюбием… И всегда боится кому-нибудь не понравиться и с кем-нибудь вступить в войну. Всё это происходит из-за себялюбия. А иногда такие люди хотят совершить все миром; я же говорю, что это – худшая жестокость, какую только можно допустить. Коль скоро рана в случае необходимости не прижигается огнем и не режется железом, а лишь смазывается, то она не исцеляется, но вся загнивает, и часто от этого наступает смерть... Почему человек продолжает использовать столько мази? Потому что от нее нет никакого вреда… ведь мазь (…) не доставляет им ни малейшего неудовольствия и никаких неприятностей…»[19].
Естественно, дерзновение истинного благоразумия не противоречит поиску наилучшего момента для исполнения принятого решения, всегда принимая во внимание любовь, благо людей. Иногда нужно уметь ждать с терпением. В других случаях ждать не стоит, так как последствия этого были бы хуже, потому что возможность больше не повторится или по другим причинам. Благоразумный человек — это тот, кто, здесь и сейчас, «верно оценивает, должно ли данное конкретное действие быть путём, который действительно приведёт к достижению поставленной цели»[20]. Но, во всяком случае, только исполнение принятого решения, после благоразумного обдумывания, осуществит в нас то глубокое желание Иисуса (Мф 5:16): «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Хосе Брахе
[1] Joseph Ratzinger, The Yes of Jesus Christ, The Crossroad Publishing Company, 1991, p. 15.
[2] Joseph Pieper, The Four Cardinal Virtues.
[3] Св. Хосемария Эскрива, Друзья Божии, п.85
[4] Святой Августин, De moribus Eccesiae, I, 15, 25.
[5] Святой Фома Аквинский, Сумма Теологии, II-II, в. 47, р. 13
[6] И. В. Гете, Фауст, Пролог на небесах.
[7] Святой Фома Аквинский, Сумма Теологии, II-II, в. 47, р. 8
[8] Катехизис Католической Церкви, №1806
[9] Святой Фома Аквинский, Сумма Теологии, II-II, в. 47, р. 8
[10] Joseph Pieper, The Four Cardinal Virtues.
[11] Javier Echevarría, Memoria del Beato Josemaría, Rialp, Madrid, 2000, p. 165.
[12] Св. Хосемария, Друзья Божии, п.87
[13] Святой Хосемария, заметки, сделанные во время медитации, 29 марта 1959 года.
[14] Святой Хосемария, Путь, п.251
[15] Св. Хосемария, Друзья Божии, п.88
[16] Святой Фома Аквинский, Сумма Теологии, II-II, в. 47, р. 8
[17] Carta a Álvaro del Portillo, 28-II-1949, citada en Andrés Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei, tomo III, Rialp, Madrid, 2003, p. 153.
[18] Святой Хосемария, Путь, п.11
[19] Святая Екатерина Сиенская, Письма, Письмо 1 (185) Григорию XI.
[20] Joseph Pieper, The Four Cardinal Virtues.